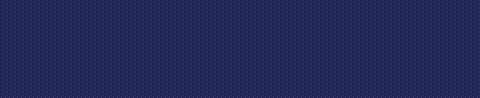Про протесты, которые уже не остановить, роль в них женщин, феминизм, сексизм Лукашенко, модель “советского простого человека” и “вертикаль” в госструктурах мы поговорили с беларуской, культурологиней, исследовательницей советской и постсоветской культуры и кино, кандидаткой филологических наук Ольгой Романовой.
Протесты в Беларуси и женские марши
Самые жесткие разгоны протеста были 9-11 августа, после объявления сфальсифицированных результатов выборов. Я хорошо помню свое состояние, когда стали появляться видеозаписи избиений, свидетельства о пытках в изоляторе на Окрестина: шок, тревога и ярость. Это была национальная травма, после чего беларусы стали выходить на протесты регулярно: например, в Минске теперь по субботам Женский марш, а в воскресенье выходят уже все.
Женские протесты стали символом борьбы беларусов. Почему, по вашему мнению, именно сейчас женщины так массово вышли на протесты, что их объединило?
Беларусь — очень современная страна, да и все мы живем в глобализированном мире. Феминизация и усложнение гендерных конструктов происходит и в Европе, и в Америке — это можно увидеть даже по современным сериалам и фильмам. Выросло поколение, которое не придерживается так называемых “традиционных ценностей”. В этом смысле Лукашенко с его риторикой и вертикалью власти — это невероятно архаично. Это очень чувствуется и по его высказываниям, и по скучным лицам чиновников, которые слушают его откровения. В основном это внешне безынициативные мужчины среднего и старшего возраста. Это все настолько устарело, что женский протест — это неминуемая реакция на лживость власти и ее архаичность.
Женский протест — это неминуемая реакция на лживость власти и ее архаичность.
Насколько обсуждаема в Беларуси тема феминизма? И почему на марши стали выходить и те женщины, которые раньше не вели публичной деятельности?
В Беларуси есть и феминистский активизм, и феминистические организации. Например, пару лет назад у нас была борьба за закон о противодействии домашнему насилию, который Лукашенко не дал провести. Тогда родилась группа “Маршируй, детка”, объединившая тех, кому это небезразлично. Фемгруппа есть также в Координационном Совете — я думаю, для Новой Беларуси это очень важно.
Кроме того, сегодня нет такой социальной и возрастной группы, которая была бы “за Лукашенко” — раскол произошел во всем обществе. На марши выходят самые разные по возрасту и по социальному статусу люди — настолько беларусы оскорблены происходящим. Стали выходить или устраивать “итальянские забастовки” рабочие крупных заводов. Если раньше пенсионеры, к примеру, в большинстве были за “стабильность”, то сегодня мы видим пожилых мужчин и женщин, которые выходят на митинги. Например, на днях в Минске прошел митинг пенсионеров — они прошли под окнами лингвистического университета, студенты которого активно участвуют в протестах, и кричали “Наши дети лучше всех!” и “Бабушки с вами!”
Был ли какой-то конкретный момент, когда вы для себя поняли, что протестные движения уже не остановить?
Это все началось еще в июле, во время предвыборной кампании, когда люди подписывались за альтернативных кандидатов. Причем многие ставили подпись сразу за Тихановского, Бабарико и Цепкало — чтобы дать шанс пройти нормальным выборам. Тогда собрали огромное количество подписей. Потом по совершенно надуманным причинам Цепкало не допустили до выборов, а Бабарико посадили, он в тюрьме до сих пор. Это был шок, потому что именно Виктор Бабарико вселил в людей веру, что перемены возможны. От того, что государство так обращается со своими же законами и гражданами, в обществе нарастала ярость и — параллельно — надежда на перемены. Это очень сложное смешение чувств. Вот, действительно, у меня, например, эти состояния меняются несколько раз в день, тем более, что многих друзей и коллег задерживают, отправляют в СИЗО и тюрьмы. Но намного важнее, что у многих, и у меня в том числе, появилось чувство гордости за беларусов и беларусок. Мы и правда талантливый и сильный народ с отличным чувством юмора, и просто не можем не победить!
Лукашенко и сексизм. Реакция беларусок
От Лукашенко часто можно услышать сексистские высказывания о женщинах. Что вы можете сказать по этому поводу и задевает ли это вас лично?
В последние лет 10 был такой период, когда при желании можно было жить в Беларуси, минимально соприкасаясь с “лукашенковским” миром. Другая Беларусь была чем-то вроде пузыря, где жили по совершенно другим правилам. Например, я уже седьмой год работаю в сфере неформального образования, мы с коллегами организовали Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (ECLAB). Среди моих коллег — партнерские, горизонтальные отношения и уважительные отношения, и таких активных сообществ у нас немало. Проблема в том, что в какой-то момент “лукашенковская” Беларусь накрыла всех будто тазом — теперь жить только своей жизнью и своими проектами не может никто.
В какой-то момент эта “лукашенковская” Беларусь накрыла нас будто тазом.
Но с Лукашенко тоже произошла трансформация. Он всегда говорил все, что в голову придет, но при этом еще изображал политическую риторику, а сейчас, в стрессе, он просто стал говорить то, что у него в голове, а в голове у него каша: здесь и теория заговора, и все его страхи, и воинствующий традиционализм, и советская идеология, которая его сформировала, и все это перемешано. “Всем протестующим платят”, “ими руководят западные кукловоды”, “на улицы выходят тунеядцы, буржуи, наркоманы и проститутки” и так далее. С одной стороны это вызывает сильное раздражение, а с другой — народное веселье. У беларусов какая-то невероятная степень протестной креативности в последнее время. На марши люди выходят с отличными кричалками и плакатами, в том числе и феминистскими: например, “да, у меня “эти дни” — дни борьбы с диктатурой”.
Если же посмотреть на эту ситуацию с лукашенковским кризисом аналитически, то можно объяснить его политическую картину мира с помощью модели “советского простого человека”. Ее описали российские социологи из Левада-Центра накануне Перестройки (а сама книга “Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х” вышла в уже после распада СССР). В 1989 году Левада-Центр провел социологический опрос с большой выборкой и в разных республиках, в том числе и БССР. Вопросы касались самых разных сфер — от семейных ценностей до национальных. На основе ответов вывели общий “социальный характер” позднесоветского человека — оказалось, что это это человек ксенофобный, патриархатный, коллективистский, лукавый и с двойными стандартами (для “своих” и “чужих”), “простой” (то есть не любит никаких усложнений — ни художественных, ни мировоззренческих), имперский. Понятно, что в книге речь шла об обобщенном типе — в реальных людях все эти черты проявлялись неравномерно и в разных сочетаниях. Но что интересно, Лукашенко — это наглядное воплощение всех этих характеристик. Во-первых, он сформировался как раз в годы “застоя”, когда позднесовесткий человек и вышел на историческую сцену. Во-вторых, за 26 лет авторитарного правления и в своем специфическом окружении “простой советский человек” в нем будто дисциллировался. И сейчас он в полной мере проявляет то, на что способен “простой советский человек”, если в его руках сосредоточено много власти. Видимо, он искренне считал, что за три дня после очередных лже-выборов закрутит гайки, люди испугаются давления и пыток, и все будет по прежнему, власть останется в его руках.
Лукашенко сейчас в полной мере проявляет то, на что способен “простой советский человек”, если в его руках сосредоточено много власти.
Это же объясняет и его высказывания о том, что женщина не сможет быть президентом или что “нормальные люди” на митинги не выходит… Видимо, он на самом деле так видит мир.
Достаточно распространенный тезис, что Лукашенко не рассматривал изначально Светлану Тихановскую как свою оппонентку именно потому, что она женщина и он попросту серьезно к ней не относился? Что вы думаете по этому поводу?
Так и было. К тому же в Беларуси долгое время пытались проводить политику мягкого традиционализма (“За крепкую семью!”, “За повышение рождаемости!). Лукашенко подвело полное отсутствие чувствительности к переменам и в нашей стране, и во всем мире. Он — пожилой человек, живущий в своем дворце, который накладывает свое архаическое виденье на все общество и, по-моему, очень удивлен и напуган, что оно оказалось совершенно не таким.
“Вертикаль” в госстуктурах
Вы вспоминали в начале нашего разговора, что работаете сейчас в сфере неформального образования, но раньше у вас также был опыт работы в госуниверситете. Можете рассказать, как это выглядело изнутри, почему вы решили уйти?
У меня получилась достаточно пестрая профессиональная биография. Я закончила филфак БГУ, там же — магистратуру и аспирантуру. Начала работать в коммерческом ВУЗе, параллельно защитила кандидатскую диссертацию в Академии Наук. А потом почувствовала, что мои знания довольно традиционны и не очень конкурентны. Я поступила в Институт Европейских культур (сегодня это магистерская программа в РГГУ) в Москве и за два года получила второе высшее образование — у меня диплом культуролога. Прожив в Москве около 6 лет, я вернулась в Беларусь, после чего получила четырехлетний опыт работы в госструктуре. Это был творческий вуз, и я шла туда работать в розовых очках: “у меня современное образование, я работала на телеканале “Культура”, читала курс во ВГИКе, привезла огромную коллекцию редких советских фильмов…”. Я хотела преподавать курсы по истории кино. И первое, с чем я столкнулась, — это деление на ”своих” и “чужих”. Преподавать меня не допустили — я как раз была “чужой”. В творческом вузе важна иерархия и преемственность, нужно быть ученицей какого-либо мастера, а если ты со стороны — ты непонятно кто, угроза сложившимся традициям.
Сначала эти компромиссы не заметны, но в какой-то момент ты понимаешь, что они искажают психику, и ты немного уже не ты.
Я осталась старшей научной сотрудницей. Выполняла формальные поручения, редактировала сборники и делала журнал, собирала какую-то энциклопедию. И много сидела в библиотеке и писала статьи о советском беларусском кино (мне казалось, что это важно, я ведь исследовательница — но на самом деле это никому не было важно, кроме меня). Бонус этой работы был в том, что у меня официально не было рабочего места, стол попросту некуда было поставить в маленьком кабинете и поэтому я не ходила на работу. После долгих лет работы фрилансером, где ты бегаешь за каждой копейкой, первое время госслужба казалась манной небесной: просто за то, что ты где-то числишься, тебе в конце каждого месяца откуда-то сверху спускаются деньги. Потом обнаружилось, что вообще-то ты платишь за это не столько своей работой, сколько компромиссами. Сначала они не заметны, но в какой-то момент ты понимаешь, что они искажают психику, и ты немного уже не ты.
Например, я была зам. редактора вузовского журнала, мне хотелось, чтобы кто-то его читал, чтобы там были интересные статьи. Но мне нужно было редактировать и размещать на первых страницах и статьи местных докторов наук — пишут они в основном, как дышат, формально, многословно, традиционно и без особых авторских идей.
“Видно, вас еще мордой по асфальту не возили. Мы знаем, где вы печатаетесь!”
И была однажды ситуация, когда я пришла в кабинет первого проректора — а это такая страшная женщина-доктор философских наук с КГБистскими связями, которую поставили в этот творческий ВУЗ, чтобы она обеспечила “закручивание гаек” после бурных и свободных 1990-х. Мне запретили печатать текст одного автора, так как он уволился и больше “не наш”, я хотела его текст поставить.
Я захожу к ней в веселом полосатом шарфике — “нет, мы его напечатаем, у нас мало хороших текстов, журнал должен быть читабельным”. И, видимо, за этот шарфик или за то, что я говорю “не с той интонацией”, она вдруг мне говорит: “Видно, вас еше по асфальту мордой не возили. Мы знаем, где вы печатаетесь!”. То ли это был намек на то, что у нее есть на меня досье, то ли это просто такой метод, перенятый у КГБ… Не знаю, что это было.
Даже эта система оказалась не настолько монолитной.
В какой-то момент я поняла, что постоянные компромиссы — это и есть плата за то, чтобы получать деньги каждый месяц “сверху” (при этом зарплата становится все меньше, в стране инфляция, — но это тоже форма компромисса). Ты соглашаешься и меняешь тему научного семинара (“это не ваш уровень — обсуждать проблемы современного образования”), публикуешь откровенно слабые тексты, делаешь бессмысленную работу. И да, живешь с большой фигой в кармане! Но если ты уже 10 лет “в системе” и компромиссы для тебя стали нормой, то авторитарная логика внедряется уже сама по себе. Уважение регалий и иерархии, формализм и бюрократизм, имитация научной деятельности, научная ксенофобия, подозрительность и борьба за место.
Но я должна сказать, что подобная ситуация в госвузах, которую я описываю, была такой семь лет назад. Сегодня и преподаватели, и студенты также выходят на протесты — то есть даже эта научная и образовательная система оказалась не настолько монолитной, какой казалась!
Пьеса о насилии и “женский опыт”
В одной из своих пьес вы затрагиваете тему абортов, почему вы решили поднять эту тему?
“Пьеса в шести отвратительных сценах”, которую я написала два года назад, — не только про аборты. В какой-то момент я поняла, что меня очень задевают темы, связанные с разными формами насилия, в том числе и насилия над женщинами. Для меня это очень сильно эмоционально заряженная тема. Например, страх психологического насилия и изнасилования будто встроен в мое сознание с 12 лет. Не так давно была ситуация: я, давно уже взрослая женщина, вечером ехала в полупустом троллейбусе домой, в отличном настроении. И вдруг краем глаза заметила, что какой-то мужчина, развалившись на сидении, пристально смотрит на меня и призывно свистит. И у меня мгновенно срабатывает “с 12 лет выученная реакция”: оценить ситуацию специальным невидящим взглядом, потому то не дай бог встретиться с ним глазами, — он это может воспринять как попытку диалога, — отследить мужчину по отражению, повернувшись к нему спиной, и сразу продумать, что делать, если он за мной выйдет на остановке. Меня саму потом поразило, насколько мгновенно и полусознательно я отреагировала как потенциальная жертва, хотя реальной жертвой никогда не была.
Архаичные патриархатные идеалы, которые автоматически накладываются на женщину, — молчать, терпеть, служить.
В общем, в моей пьесе тема абортов — это скорее тематический маркер, но на самом деле она про механизмы насилия, в том числе психологического, домашнего, “насилия в родах” и т.д. Меня также очень злит, когда вокруг темы женского права на аборт выстраивают серию подмен понятий, в результате которых женщина должна или чувствовать вину, или воспитать в себе жертвенность — то есть на нее проецируются архаичные патриархатные идеалы — молчать, терпеть, служить. Государству служить, мужу служить…
Всего у меня четыре пьесы, и все они так или иначе о насилии и с большим количеством черного юмора. За две последних недели я написала еще одну — она называется “Котлеты, винегрет, текила и Беларусь-2020” и посвящена тем, кто защищает сегодня лукашенковскую “стабильность”: людям, поддавшимся пропаганде БТ, тем, кто оправдывает и верит Лукашенко и тем, кто задерживает митингующих, пряча лицо под черной балаклавой.
Анастасия Горпинченко